
|
Аннотация
Второй роман Ольги Покровской "Булочник и Весна" — книга удивительно душевная и неожиданная. С трогательной, порой отчаянной искренностью герой делится с нами историей прорыва из одиночества в мир понимания и любви. Его исповедь не эгоистична — она полна сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного кризиса. Талантливый музыкант, не добившись признания, уходит в бизнес. Художник от Бога перебивается плотницким трудом. Заботливая мать и жена начинает мечтать о "счастье". Сказочной красоты деревня, куда бежит из города потерявший себя герой, оказывается средоточием вечных вопросов. Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга зовет нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах друга в дом, где пахнет оладьями и звучит столетний рояль, и, не стесняясь, присоединиться к сердечному разговору о самом главном.
Кто заканчивает роман? – или несколько слов о финале.
Написав «Булочника» я попала в курьёзную ситуацию, когда читатели начинают защищать героев… от самого автора. Интонация претензий следующая: как же так! Такие хорошие люди – где награда? Где победа, ясность, где жирная и счастливая точка в истории?
Несмотря на некоторую растерянность, испытанную мной по прочтении подобных писем, всем высказавшимся я благодарна – за то хотя бы, что способны увидеть в героях живых людей, и не поленились в письменном виде выразить автору свой протест... В этой заметке постараюсь ответить всем моим респондентам сразу и, может быть, даже самой себе ответить, что за штука такая, финал. (Тут сразу придется оговориться, что речь, конечно, не о жанровой литературе, которая пишется «по схеме» и где с финалом не бывает проблем – дай читателю почувствовать удовлетворение, и всё будет ок).
За финал у автора с героями идёт битва. Автор плохой книги эту битву выигрывает. Автор хорошей – проигрывает. Согласие случается крайне редко. Причина в том, что в «плохой» книге автор распоряжается судьбами персонажей-марионеток от начала и до конца. А в хорошей, после того, как написана половина, а то и раньше – писатель вообще лишается героями права голоса. Потому что они, его герои, ожили, стали людьми. Потому что они, как все люди, совершают ошибки, иногда крупные, и, естественно, по законам причинно-следственной связи, получают то, что заслужили.
Булгаков не смог дать Мастеру и Маргарите счастье, хотя, без сомнения хотел, тем более, что отождествлял их с собой. Он не мог поселить их в рай по понятной причине. Максимум, что позволило ему его писательское чувство правды – наградить их покоем. Хотя покой – отнюдь не счастье, и далеко не всем его хочется.
Толстой в финале превратил дивную, тонкую Наташу Ростову в «плодовитую самку», потому что это единственная правда, которую продиктовала ему её личность. И князь Андрей погиб, потому что по складу натуры не мог жить, как не мог жить по складу характера, например, вполне реальный человек Лермонтов. Историю про, неожиданно для автора, бросившуюся под поезд Анну все мы тоже знаем. Не было тут других вариантов – учитывая характер и ситуацию.
Единственное, что может сделать писатель – записывая – именно записывая, а не сочиняя финал (сочинить можно завязку и первую треть сюжетной линии) – это попробовать договориться с героем. Убедить его через других персонажей поискать иной выход.
Возвращаясь к роману «Булочник и Весна», с удовольствием расскажу, откуда взялись наиболее «возмутительные» эпизоды конца книги. Главное обвинение в мой адрес: неясность судьбы Пети и Ирины. Ладно, пусть автор устроил герою выволочку - в конце концов, может, Пётр Олегович в этом и сам виноват. Но по крайней мере сказать, что в итоге у них с Ириной – вместе или врозь, хоть это-то можно было?
Можно было. И автор старался достичь максимальной ясности. Но не всё в его силах. Он не волшебник – он всего лишь фиксирует то, что его герои прожили на самом деле - в своей параллельной реальности.
Надо сказать, что мне удалось порядком смягчить финал по сравнению с той «правдой жизни», которую диктовала мне, скажем, Ирина. В конце она категорически не хотела проведывать Петю. После такого разочарования в человеке ещё и ехать к нему? Петю, естественно, мне было жалко, как, думаю, и многим, чисто по-человечески. Я принялась уговаривать Ирину. Переубеждать, приводить доводы, доказывать, что её разочарование не окончательно, а всего лишь трудный этап в развитии отношений и прочее... «Подключила» к уговорам Костю – как-никак лучший друг, имеет право заступиться. Сколько они заступались друг за друга по книге! (Я, честно сказать, полагаю, что мушкетерская взаимовыручка этих двух товарищей и есть главное, что мне хотелось «воспеть»)
В итоге уговоров Ирина согласилась, но без охоты. Сказала: «Хорошо, я съезжу к нему, но ничего обещать не могу. На данный момент я разочарована в нём, понимаете?»
Это – максимум, чего мне удалось от неё добиться. Она «ничего не обещала», и потому я не могла сообщить читателю, что Петя с Ириной жили долго и счастливо. Это было бы просто враньём.
Есть и ещё одно объяснение открытому финалу. Я живу в одном времени с героями. И когда книга подходит к некой точке и останавливается – герои продолжают жить в своей параллели, просто я об этом уже не пишу. Чтобы «закрыть» финал, мне надо было отложить книгу на пару лет и посмотреть – как у них там всё сложится после бури. Петя ведь угодил в серьёзнейший кризис, и выйти из него за неделю нельзя. Неизвестно, сколько он будет в нём барахтаться, пока переживёт, перерастёт его – как за два года перерос свой кризис Костя. Выйдет ли он после перебаливания окрепшим – или наоборот сломавшимся? Как, скажите, я могу знать об этом наутро после завершения истории? (Кто-то может, я – нет. Для меня создание книги процесс мистико-биологический – как рождение и рост человеческой личности).
Иногда ясность приходит позже. Сейчас, полтора года спустя после «Булочника», пройдя «буферную зону» повестей и рассказов, я начала писать другой роман с совершенно иными персонажами. Не так давно на улице этой ещё глубоко черновой книги, к великому моему изумлению, я встретила старых героев. Точнее – увидела мельком, но знаю, что эта мимолётная встреча эпизодом ляжет в новую книгу и многое прояснит в финале «Булочник». Произошедшая встреча прекрасна и абсолютно естественна - герои прожили в своем «параллельном мире» полтора года, время, понадобившееся им, чтобы разобраться в себе и выйти на новый виток. Теперь мы увиделись, и я знаю, как там у них дела.
Читать главы из книги
oМаленькая предыстория
Мой прадед здорово играл на мандолине. У него был редкий, дорогой инструмент, можно сказать, «мандолина Страдивари». Она досталась ему по наследству, такому дальнему, что никто и не помнил, какая буря занесла эту дивную итальянскую птицу в семью хлебопёков.
До Гражданской, ещё ребёнком, прадед работал при старших в хлебном цеху. Каждый день он спускался с деревенско го холма и шел в село, где дымила пекарня. Говорят, из горсти мучного сора у него выходили такие хлебы, что не стыдно подать Государю, а горячая корочка каравая высвистывала, по свидетельству очевидцев, темы из русских опер.
В двадцатые прадед задумал оставить хлеб и поехать в Москву в музыкальный техникум, но любовь соседской девуш ки победила мандолинную страсть. Он женился и прожил в деревне до самой Великой Отечественной. В сорок первом ушёл добровольцем и пропал без вести подо Ржевом.
Прадед был белобилетник, воевать не умел, но, я думаю, честно поработал пушечным мясом. У нас сохранилось его последнее фронтовое письмо — бумажная пыль с разводами. Лишь когда мы с отцом догадались отсканировать эту ветошь и выставить контраст, текст проявился.
Письмо набито штампами — «побьём врага», «за родную землю», но сквозь оглушённый боем слог виднеется одна винтовка на троих и знание даты собственной смерти — завтра. У нас осталась его фотография — лирический, юный мой предок сидит на лавочке перед домом. На коленях, как кошку, приласкал свою мандолину. Приглядишься, и становится ясно: человек безмятежен, время не торопит его, а встало у лавочки и ждет терпеливо, пока он налюбуется на красоту земли. И как будто сама деревня с чудным названьем Старая Весна прильнула к его плечу, склоняясь берёзой к завалинке. Мне было лет десять, когда я увлёкся прадедом. В надежде отыскать его солдатский медальон я записался в военно исторический кружок, но следопыты моего детства шли по иным следам, они не вели к прадеду.
Следующим шагом моей любви оказалась мандолина. К большому моему горю, легендарный инструмент, пережив ший Гражданскую, нэп и коллективизацию, не сохранился. В войну его обменяли на продукты.
В магазине «Ноты», что был на Неглинной улице, ошалевшие от моего натиска родители купили мне дешёвый ученический инструмент и записали в музыкальную школу, расположенную в соседнем дворе. Несмотря на то что я был переросток, на отделение народных инструментов меня зачислили без проблем.
Не менее полугода я радовал моего педагога рвением, которое он ошибочно принимал за способности. К сожале- нию, тройка по алгебре отвлекла меня от постижения мандолинных секретов.
После алгебры пришлось подтягивать химию, потом я влюбился, потом пошёл на курсы английского. Карьера мандолиниста не состоялась, и некому было меня в том упрекнуть. Я рос в любящей вольнице, предоставленный сам себе. Мама, лингвист-востоковед, обитала в Древней Японии. Папа, инженер со склонностью к кладоискательству, — в допетровской Руси. Когда я расстался с музыкой, никто меня не ругал.
За недолгое время учёбы в мой мандолинный невод угодилатаки золотая рыбка — начинающий пианист Петр Олегович Вражин. Петина мама Елена Львовна, моя учительница сольфеджио, опасаясь, что в районной музыкалке дарование может зачахнуть, определила сына в школу для гениев. Он был занят под завязку, но дважды в неделю, в качестве вечерней прогулки, всё же являлся во дворик — встретить маму. Однажды мы с ним погоняли в берёзках мяч и сошлись навек.
Петя был заносчив, как все одарённые дети, но при этом честен и щедр, лих на выдумку, мастер понимать с полуслова. Го- лова у него работала отлично, и во всякой печали он давал мне дельный совет. Думаю, что и он нуждался во мне. Моя безалаберность смягчала его гордыню, облегчая доступ вдохнове- нию. Обойтись без вдохновения Петя не мог. Он собирался сказать в исполнительском искусстве новое слово. К тому же бездарностью и разгильдяйством я выгодно отличался от его одноклассников. Со мной он отдыхал от честолюбивых битв. Ни война, ни мандолина не интересовали Петю, а меня, в свою очередь, оставляли равнодушным музыкальные конкурсы и козни Петиных конкурентов. Но что-то волнующее все же было в нашем общении. С Петей я чувствовал, что под коркой жизни есть магма — мы мчимся над огненной глубиной, и наш путь не разведан.
В старших классах, когда невдалеке замаячило поступление в институты, Петя стал звать меня к себе — поработать публикой. По-простому, в домашней футболочке, чуть ли не в шлё- панцах, он усаживался за инструмент и мчал меня сквозь мрак и проблески мироздания. Дар Пети, может быть, и скромный в масштабах планеты, казался мне запредельным.
Случалось, впечатлённый финалом, я бросался на его плечи, как если бы он был форвардом, забившим решающий гол. Мы валились на клавиши. На гром влетала Елена Львовна и кричала, что мы сломаем Пете пальцы. А отец молча стоял в дверях. Весь этот балаган: надежды, занятия до упаду, конкурсы — сообщал его лицу выражение утомлённого презрения. Сам он с успехом ворочал дела в сфере недвижимости и считал карьеру музыканта глупостью, обрекающей сына на жалкую жизнь.
Что касается моих профессиональных планов, улыбка прадеда столь ободряюще светила мне с фотографии, что я решил возродить династию и нацелился изучать технологию хлебопекарного производства.
Петя поддержал меня в моём выборе. По его мнению, не было ничего странного в том, что его лучший друг выбрал в качестве музыкального инструмента хлеб.
Из меня получился необычный студент — страстный троечник. Бойкотируя ряд скучных предметов, я знал лучше всех на курсе, что хлеб — великолепная вещь. Если угостить «правильным» караваем президентов ядерных держав — в мире будет мир. Вирусы вымрут, если разломить его в очаге эпидемии. Нечто вроде животворящего креста мерещилось мне в ломте с душой испеченного хлеба.
Хлеб увлёк меня, как иных увлекает музыка. Я учил его и тренировал при всяком удобном случае. Мука и закваска были моей студенческой гитарой — я таскал их с собой по гостям. На последнем курсе мне повезло. Я получил работу в уникальной мастерской, где разрешалось творить. Пекарня при- мыкала к торговому залу, и я частенько выскакивал поглядеть, кому достанутся наши детища.
Майя была воспитанная девушка из провинции, студентка педагогического. Она заглядывала к нам, если в занятиях случались окна, — купить пирожок. Когда я в первый раз увидел её в булочной, мне показалось: это моя душа вышла из груди и встала передо мной, чтобы я мог разглядеть её хорошенько. У моей души оказались светлые, сильные, как ливень, волосы, гимнастический стан и певучий голос. За какие-нибудь два дня первое впечатление окрепло до уверенной страсти. Меня не заботило, испытывает ли Майя в мой адрес что- нибудь подобное. Раз она — моя душа, взаимность, само собою, приложится.
Мы поженились через три месяца — столько пришлось ждать очереди в загс.
Несмотря на учёбу в педагогическом и голливудские волосы, главным даром моей жены оказалось сияющее сопрано. Майя пела романсы, русские народные песни, арии из опер и псалмы. Её голос был как яблоня, он цвел и приносил плоды. Майя любила пение, как я — хлеб.
Несколько раз они с Петей устраивали импровизированные дуэты. Он играл бережно, чтоб не затмить блеском опра- вы наивное стёклышко её пения, и с одобрением кивал: «Есть талант. Надо учиться. Учись, выходи к публике!»
Не знаю почему, должно быть, из подспудной ревности, идея «выхода» приводила меня в бешенство. Наконец я твёрдо заявил ему: отстань!
Петя пожал плечами и больше не звал нас в гости, а Майя навек лишилась профессиональной поддержки.
Вины за собой я не чувствовал. На мой взгляд, мы с моей женой не нуждались в хобби — нам с лихвой хватало друг друга. Майя подтвердила это, с лёгкостью отлепившись от всех своих прежних родственников и друзей. Она как бы стёрла их, забелила в туман, так что единственным реальным существом в её жизни стал я. Эта жёсткость так не вписывалась в Майин нежный характер, что я принял её за побочный эффект всякой большой любви.
«Смотри, чтоб однажды она не затёрла так же и тебя!» — предостерегла меня мама. Помню, я обиделся на её слова всерьёз и неделю держал бойкот.
Одним из наших с Майей любимых дел было фантазирование на тему будущего. Жизнь в мегаполисе не устраи- вала мою выросшую на свежем воздухе жену. В мечтах у нас помимо детей был дом в живописном месте Подмосковья и собственная булочная-пекарня в городке неподалёку. Пару лет мы бултыхались в фантазиях. Я исписал тетрадь, сочиняя ассортимент нашего хлебного предприятия. Майя приглядывала по рынкам и магазинам растения для будущего сада. А потом во мне проснулся добытчик. Мне захотелось прикинуть, в какую сумму выльется запланированный нами рай, и наметить шаги к его достижению.
Стоило мне занести калькуляции в компьютер, как в тот же день чёрт толкнул мне навстречу бывшего однокурсника. Он «завязал» с хлебом и стал соучредителем компании по продаже некоего перспективного оборудования. Предприятие расширялось, он гостеприимно приглашал меня на борт.
Я бросил булочное дуракаваляние и довольно быстро смекнул главное: наше с Майей будущее зависит не от фантазий, а от объёма продаж, который я обеспечу компании. С той самой минуты новая работа начала нравиться мне.
Я любил прийти домой после трудного дня. Жена ставила передо мною ужин, садилась рядышком и рассказывала какую-нибудь безделицу. Я едва слышал её — в уме проносились отгруженные машины, набитые вместо коробок колон- ками цифр. И всё равно мне было хорошо. Мне нравилось, что котлеты вкусные, что голос Майи нежен, что в боевике по телевизору один парень застрелил пятерых других, что наши фуры с товаром едут и однажды из них сложится надёжное будущее для семьи.
Само собой, я менялся, обрастал потихоньку горелой корочкой. Невольно и Майя отзывалась на перемены во мне. Она почти перестала петь. Запылились ноты Шуберта, подаренные ей Петей. Садовые рынки за неимением сада утра- тили актуальность. О булочной мы не заговаривали.
Всё это не тревожило меня. Мечты отошли, но вызревшее в них счастье осталось. В снежном месяце марте у нас родилась дочка Лиза, Елизавета Константиновна — имя как дол- гая жизнь. В год она заговорила. В два — заговорила мудро. Однажды я вырвался душой из дел и подумал: вот бы найти работу поспокойнее, прийти пораньше, сесть на корточки рядом с Лизкой и прильнуть к её детству. Так, глядишь, и узнаешь, зачем живёшь. Преступление и наказание
Мне даже неловко пересказывать этот избитый сюжет. Мы работали много и прибыльно. А через пару лет внутри нашей фирмы грянул переворот. Сменилась власть, и моим начальником стал грамотный парень, не стеснённый комплексом совести. Работать сделалось гадко, но уйти я не хотел, потому что удостоился чести быть акционером, вложил много сил и прочее.
Так начался мой добровольный плен. Жизнь пропиталась ровным мраком. Не помню в тот год мою дочку и не помню родителей. И даже не могу сказать, из-за чего случился тот первый срыв, после которого всё покатилось. Помню только, как рявкнул на льющую слёзы Майю: не будь чёрного моего труда, не было бы и твоего яблоневого цвета! Что-то в этом духе. И умчался на балкон: не выброситься — покурить. Майя рванулась было за мной, но я за шкирку, как щенка, вернул её в комнату.
Естественно, мы помирились. По настоянию Майи я честно заглатывал на ночь валерьянку с пустырником. Скачал и во спасение души прослушал в пробках «Идиота», «Доктора Живаго» и «Божественную комедию». Но ни Данте, ни тем более Мышкин с доктором, которые и сами были пропащие, не сумели вылечить моей беды. Мрак растёкся и стал сплошным. Я решил, что начальство бессовестно экономит на моих бонусах, а пожалуй что и подыскивает замену этому злому неудобному типу — мне. Теперь, припарковав после работы машину, я не шёл домой сразу, а доставал из бардачка что-нибудь покрепче и пы- тался стать человеком. Несколько глотков — и вот уже можно жить, улыбаться близким. Обычно заряда хватало на час, а потом, если я не успевал вовремя лечь спать, благодушие перегорало, и тогда бывало по-всякому.
Я не ждал от Майи поступка, но однажды, прихватив в качестве бронежилета пятилетнюю Лизу, она набралась храбрости и пришла ко мне с деловым предложением. В руках её был проект нашей новой жизни — тетрадка, в которой она, начитавшись статей в Интернете, расписала наивный бизнес-план булочной-пекарни, если вдруг я решу её открыть. В тетрадь были также вложены распечатки с торговыми предложениями небольших и практичных коттеджей недалеко от Москвы. «Обязательно надо переехать на природу! — убеждала она меня. — Здесь ты не очнёшься!»
Я молчал, стараясь не сорваться.
Деньги на всё это хозяйство Майя собиралась добыть путем продажи акций компании, где я жил и умирал послед- ние несколько лет. «Нам как раз хватит!» — улыбнулась она, надеясь, что бред нашей юности тронет меня.
Я сказал, что её проект — плод фантазий домохозяйки. А впрочем, если ей надо денег — я продам акции. Пусть берёт и решает свои проблемы. Пусть вообще разводится со мной, если её не устраивает, как я забочусь о семье.
Майя сжалась и истаяла в детской. А я остался, полный клокочущей ярости.
С того дня я почуял странную свободу. Словно кто-то дал мне право впадать в бешенство при малейшем упоминании неприятных для меня тем. И хотя я не одобрял своих припадков, нельзя было не признать: кое-какую разрядку нервам они давали. К тому же у меня была индульгенция: я предан семье, живу ради семьи, ради семьи рву себя в клочья. Кто посмеет бросить в меня камень?
Нет, никто не смел. Не было среди моих близких таких смельчаков. На берегу, в несбывшемся цветении сада, осталась умолкшая Майя. Грязной баржой я отшвартовался и плыл в чёртову даль.
— Да ты вообще-то любишь её? — спросил меня Петя, мастак ставить вопрос ребром.
Я хотел двинуть ему, но мои руки промолчали. В них не было энергии битвы. Петь, ну а кого же, по-твоему, я люблю? Майя — моя земля.
Тем временем жизнь моей жены заметно разладилась. На работу она не вышла — всякий раз её решимость сдувало Лизиной простудой или капризом. Однообразный быт и гнёт моего характера сделали своё дело: у Майи в волосах заблестели седые нитки, навалились головные боли, и вдобавок ко всему «рухнуло» зрение. Во всяком случае, ей так казалось. Всезнающий Петя посоветовал нам специалиста. «У моей мамы есть классный окулист, — сказал он. — Буквально слепых спасает!» Я любил возить близких по лучшим врачам, на- деясь, что это окупит моё бытовое свинство, и сразу поехал с Майей. Поликлиника эконом-класса и скромная цена приёма разочаровали меня. Зато Майя была в восторге от доктора. Интересно он лечил ей глаза. Велел в закатный час смотреть на солнце, — и Майя выбегала на перекрёсток разыски- вать между домами красный диск. Велел научиться рисовать красками зелёный лес — и Майя, прихватив Лизу и всё, что нужно живописцу, уходила в парк на пленэр.
— Ну и шарлатана ты нам сосватал! — бранил я Петю.
Скоро я узнал от жены, что её чудодейственный доктор, некий Кирилл без отчества, работает не только в этой дурацкой клинике, но и в каких-то даровых богадельнях, что у него в квартире живут две подобранные собаки и ещё что он родился и вырос в Переславле-Залесском, на берегу древнего озера. Этот никак не относящийся к лечению факт особенно вдохновлял Майю. Она рассказывала мне о Переславле раза четыре.
Тут уж пора бы вызвать доктора на дуэль. Но нет, ничуть не бывало! Я ни капли не ревновал. Невозможно было представить тогдашнюю Майю героиней любовной истории. Всё равно что приревновать больного старика. И потом, все-таки Майя была моей «душой». Сколько ни терзай душу, не бывает, чтобы она изменила!
К разгару лета зрение восстановилось. Майя бросила изумрудные акварели и запела. Её пение было как проливные дожди июля — безудержным, сильным, свежим. Помню, я проснулся от песни, летящей с кухни, и почувствовал прилив обжигающей сердечной тревоги: передо мной был край, за который нельзя шагнуть, не разбившись. Я отогнал фантазию и решил, что завтра же попрошу у начальника отпуск. Займусь семьёй, поборю раздражительность, может, даже начну присматривать дом в Подмосковье.
К сожалению, с отпуском ничего не вышло. Мы вели военные действия против конкурирующих контор, и я не мог дезертировать. Мирное лето шло по земле без меня. Как-то в начале августа я пришёл с работы и увидел на кухонном столе сноп луга. Большой, чуть подвядший букет — колокольчики, зверобой, ромашки, душица, пижма — возвышался цветущим берегом возле самой моей тарелки, и так светло было от него, так пахло Русью, что я не смог приняться за еду.
— Это где же вы набрали? Надеюсь, не в Переславле?
— Ну да, — ответила Майя, переставляя букет на подоконник. — Мы втроём ездили, с Лизкой. Лизка угулялась, спит! — Её голос был выше обычного, но вполне твёрдый. Я даже не взглянул. Мне только было странно: как она сумела так мужественно и просто поставить точку? Так внезап- но!
Зачем-то я собрал со стола нападавший из букета цветочный сор — как в войну хлебные крошки — и высыпал в кар- ман штанов. Туда же спрятал пачку сигарет, быстро прошагал на балкон и заперся там, сунув за поднятый шпингалет обрезок плинтуса.
Я стоял спиной к балконной двери и слышал, как со стороны комнаты бьёт дождь Майиных рук — крупный ливень с градом. Жаль, что пластиковые окна не звенят. Как славно звенели бы стёкла в деревянных расшатанных рамах!
Майя барабанила и плакала. Если б она плакала о нас, я бы открыл ей дверь, развинтил обы грудную клетку — и пусть хозяйничает, как хочет, в моём Божьем царстве, пусть везёт меня в деревню, приучает к вокальному творчеству — теперь я готов. Я готов, но Майя плачет не обо мне. Она плачет, потому что боится: если этот псих улетит с пятнадцатого этажа, его выходка навсегда омрачит ей светлое счастье с доктором. Утром вместо работы я поехал лечить глаза.
Врач — молодой, с грустным лицом и вихрастыми русыми волосами — предложил мне стул. Я мотнул головой, тщетно стараясь хранить спокойствие. Дергалась мышца щеки, в кулаках и висках кровь забивала гвозди. Он посмотрел с внима- тельным сочувствием на мой тик и велел рассказывать.
Рассказывать! У меня не было слов — я мыслил движением и предметом. Противник повыше, зато поуже в плечах. Аппаратура, угол стола, бетонная доска подоконника. Но не виском. Убивать плохо. Бить — хорошо! Лучше — на открытом пространстве. Конечно, и он ответит. Если только не примет моё нападение как крест за любовь.
В растерянности доктор смотрел, как копится к броску моя ненависть, и вдруг до него дошло. Он понял, кто явился к нему, и вздохнул прерывисто. Так сильно, прерывисто и по- детски! Вечно вздохнул. Вздохнул в Гефсиманском саду.
От этого вздоха моя смертная злость сорвалась и ушла, как рыба с крючка. С пустыми руками я стоял супротив врага, и мне было жалко его, как бывает жалко собаку, птицу, любое живое существо, которому причиняют увечье.
За спиной Майиного доктора светлело окно, а в нём августовский вянущий тополь. Сизый голубь, переминаясь по карнизу, клевал в стекло.
— Ну давайте, работайте! — сказал я, садясь на стул. — Проверяйте буковки!
Но он не стал проверять, а остановился поодаль, задумавшись надо мной. Я почувствовал спазм и тепло — не в глазах, пока ещё только в горле. Встал и вышел.
Дома я раскопал нашу с Майей сумку для путешествий и перекинул в неё из шкафа кое-какие вещи. Взял ещё фотоаппарат, ноутбук, зарядку от телефона и удочки. Ключи бросил на подзеркальный столик. Что говорила Майя, я не разобрал, потому что временно оглох, а Лизки дома не было. Моя мама повела её в Ледовый дворец, да я о ней и не вспомнил.
Выйдя, долго искал по двору нашу новую машину — классную тачку, японский внедорожник, будь он неладен. А когда нашёл, никак не мог пристроить удочки. Отовсюду они выпирали. Из машины позвонил маме и сказал... не помню что. Её ответная реплика тоже не уцелела в памяти. По- том позвонил Денису и Маргоше — это мои давние друзья по пекарне — и спросил, не хотят ли они со мной на рыбалку? Денис согласился с лёту, но Маргоша остудила его: что, прямо в рабочий день?
Тогда я позвонил Пете, и Петя всё понял. Он сказал, что на рыбалку не поедет однозначно, тем более с психопатом в стадии обострения. Но не будет возражать, если вечером я зайду к нему на часок.
Я бросил телефон на сиденье, где обычно ездила Майя. Мне хотелось вдавиться в автомобильное кресло, войти под обивку и уснуть там, как спал когда-то в животе матери. Страшно было не то, что меня разлюбили, а то, что нет, оказывается, ничего вечного. Я тыкался в углы души и не находил убежища. Куда ни плюнь — всё смертно. Нелепость, конечно, но самым живым из всего, на что оглянулась память, был сегодняшний проигрыш в кабинете, когда я пожалел Майи- ного доктора. Пожалел, как дурак, или, может__________, это голубь в окне сбил меня с толку?
Поначалу я хотел уехать в Оптину Пустынь или ещё всё равно куда. Колоть дрова, печь хлеб.
— А что, хорошая мысль! — сказал Петя, к которому я завалился с вещами. — Погоди только, мы тебе сухарей соберём на дорожку. У меня там батон чёрствый! — и он на пол- ном серьёзе пошёл на кухню резать хлеб. Настрогав ломтей, он оставил их лежать на доске, отряхнул ладони от крошек и загадочно произнёс:
— А пока сухарики сушатся, отвезу тебя в одно место!
Я не стал возражать. Во мне даже дёрнулась надежда: вот сейчас он поедет со мной домой и сотрёт из действительности этого офтальмолога. Скажет: «Ребята, да вы чего!» И мы с Майей заживём дальше.
Но у Пети были другие планы. Он отвёз меня в клуб, где сам тренировался уже несколько лет. Там мне выдали обмундирование и пахнущее фальшивыми цветами полотенце.
В пику святому долгу музыканта трястись за сохранность рук Петя здорово боксировал. Ничего не беречь и вообще было в его характере. Безо всяких сантиментов он выбивал из меня «Оптину Пустынь», выбил бы, наверно, и Майю с доктором, но, не рассчитав, засветил в глаз.
— Ну вот! — сказал он, оглядев меня с удовлетворением, как если бы фингал был частью реабилитационной про- граммы. — А теперь покушать и коньячку! Завтра будешь как новенький!
На следующее утро я проснулся в Петиной «студии» — квартирке, где он недавно снёс стену между гостиной и кухней, чтобы влез рояль, — и, не обнаружив хозяина, набрал его номер. «Я пока у моих погощу, — сообщил он. — Ключи на столе, поливай пальму. В общем, живи!»
Сам он недавно расстался с очередной подругой и был не прочь отдохнуть у родителей — в чистоте, на маминых разносолах.
«Это верно, а что ещё делать? — сказал я себе, разглядывая в зеркале след вчерашнего бокса. — Живи, брат!» И стал жить.
3
Борьба за мир
В моей семейной драме не было ничего выдающегося. Никакой волшебной изюминки. Всё логично, всё по заслугам. Слабая надежда, что Майя прибежит утешать меня от беспочвенной ревности, не сбылась, и я начал думать, как бы попроще и без мучений спустить свою жизнь под откос. Недолго злоупотребляя гостеприимством Пети, я перебрался к родителям.
— Наломал — отвечай! — сказала мама, которую я не решился посвятить в подробности разрыва. — Мирись, налаживай отношения! А то оставишь себя без дочери, а меня без внучки.
К сожалению, её совет лежал за пределами моих возможностей. Я не видел дороги и ограничил жизнь работой и сном. Единственная щёлка — по выходным Петя стал вытаскивать меня в лесопарк погонять мяч с товарищами детства. С той поры лес взял на себя роль моего наставника. «Так же, как смысл зелёной листвы — в выработке хлорофилла, смысл человеческой души — в выработке любви, — шептал он мне в самое сердце. — Если ты стал непригоден и вырабатываешь какой-нибудь шлак вроде тоски или зависти — облети и умри». На эти и подобные темы я размышлял, гоняя мяч, спотыкался и пасовал противнику. Но дальше раздумий дело не шло. Петя бранил меня и требовал решительных мер. Я и сам не понимал, почему не предпринимаю попыток к восстановлению мира с Майей. Что-то мистическое было в моём бездействии; я чуял, что не одни предстоит сносить железные сапоги, и трусил перед дорогой.
В какой-то осенней игре я ухитрился запульнуть в ворота врага два мяча. «Ну что, брат, на поправку?» — сказал в перерыве Петя, и было видно: он рад, что я снова забегал шустро. Я тоже был рад и, может, отыграл бы второй тайм ещё веселее первого, если бы не странное препятствие.
Минут через пять после возобновления игры сквозь дождливую взвесь я увидел на кромке поля девочку, чуть по- младше Лизы. На ней были коричневые брючки, розовая курточка и зелёный берет. Цветение это среди вянущего, обожжённого заморозками леса захватило меня.
То и дело я соскальзывал на девочку взглядом: сперва она возила палкой в луже, гоняя листья от берега к берегу, а затем бросила своё занятие и уставилась на поле.
Я чувствовал на себе её взгляд всякий раз, когда упускал мяч. Мне казалось, она жалеет меня, потому что я рассеян и товарищи по команде частенько удостаивают меня справедливых эпитетов.
— Петь, не знаешь, чей это ребёнок? — спросил я, пока один из наших бегал за улетевшим в кусты мячом.
— Витьки Евсеева, — сказал Петя, кивая на ворота противника. — Берёт её у жены по субботам.
Я обернулся и поглядел на Витьку. Должно быть, смесь чувств, проступившая на моём лице, не понравилась Пете.
— Ступай__________-ка ты, брат, отдышись! — велел он и, положив ладонь мне на спину, проводил до скамейки.
Тем временем девочка отошла от края поля, сделала несколько шагов в сторону лавки, где я присел передохнуть, и подобрала жёлудь. С полминуты она ковыряла шляпку, а затем приблизилась и очень тихо спросила:
— А почему у вас такая чёрная кофточка?
Вопрос в стиле Красной Шапочки застал меня врасплох.
Во-первых, не кофточка, а майка. Во-вторых, что значит, «такая чёрная»? Просто чёрная. Не чернее, чем у других. На мне была обыкновенная спортивная майка с длинными рукавами. Чёрная. Без рисунка.
— А какая должна быть?
— Зелёная, как у моего папы, — сказала девочка и посмотрела на свои носки, тоже вполне зелёные. Левый был явно темнее правого. Он промок, как и край левой брючины и оба манжета розовой куртки, искупанные в луже.
Было ясно, что мои способности поддерживать беседу разочаровали её. Она развернулась и побежала прочь от футбольной поляны, к берёзкам, где валялся её велосипед.
В этот миг родитель девочки Витька Евсеев спас ворота, о чём свидетельствовала горестная брань нашего нападающего.
Я взял рюкзак и пошёл в сторону аллеи. Проходя мимо ворот, крикнул:
— Евсеев, у тебя ребёнок в луже вымок, а ты не чешешься!
— Пусть закаляется! — беспечно ответил Витька. — А ты чего, уже убегался?
Через пару минут на аллее меня нагнал Петя.
— Да стой ты! — крикнул он, дергая лямку моего рюкзака. — Почему ушёл? Из-за дочки Витькиной раскис? — взял- ся допрашивать он. — А кто виноват? Я тебе сколько говорил: не можешь выкинуть из башки — иди и отвоюй обратно! Просто возьми своё!
Он стоял под разгулявшимся дождем и глядел на меня с таранной энергией. Волосы его вымокли и стали как чёрные сосульки.
— Ты, брат, разочаровываешь меня, — сказал он. — Я не буду тебя тащить. Персонаж без воли к борьбе меня не захва- тывает! — и зашагал к поляне.
Я помедлил немного, а потом сорвался и бегом помчался к шоссе. Капли, нанизанные на лески ветра, били по шее. Чёрная майка липла к груди, как ледяная ладонь.
Выбежав из парка, я не стал садиться в машину, а рванул в первый встречный магазин одежды. Мне надо было выбрать что-нибудь не чёрное. Поборов себя, за пару минут я разнообразил свой хмурый гардероб тремя футболками — оран- жевой, красной, зелёной и, укомплектованный, как светофор, вернулся в машину. Подумал, переоделся в зелёную и, не откладывая, поехал к Майе.
Чужой себе — изумрудный и мокрый, как английский газон, я поднялся на лифте и позвонил в дверь. Звонок вышел рваный, но решимость моя была велика — я знал, что войду. Не глянув в глазок, Майя открыла и, увидев меня, отшатнулась в глубь прихожей. Я шагнул в дверной проём и чуть не споткнулся — между нами текла, как река, раскатанная по полу полоса обоев. Парень приезжей нацио- нальности возил по изнанке кисточкой. Если б не Майя, я подумал бы, что ошибся квартирой, таким чужим выглядел ободранный, пропахший клеем коридор. Всё это могло означать только одно: прежде чем въехать в новую жизнь, Майя решила смыть память о старых жильцах ремонтом.
Тем временем хозяйка оправилась от изумления, и на меня ледяной крошкой посыпался её голос. Нет, не входи, ты испачкаешься! Лучше зайди в другой раз! Лизки нет, она на за- нятиях. Потом, потом обсудим всё насчёт Лизки! Ну иди же, не видишь, у нас высыхает клей!
Всё это было сказано звонко, легко. Как будто она не допускала и мысли, что я могу повести себя грубо.
Я шагнул через полосу обоев и на том берегу тронул плечо работяги.
— Дружище, ты свободен! Сколько я тебе должен?
— Нет, продолжайте! Работайте спокойно! — крикнула Майя.
Но парень, не сводя с меня глаз, уже тянулся слепой рукой за курткой. Я дал ему денежку и, легонько подтолкнув в спину, прикрыл входную дверь.
— Ну что же это такое! Всё по новой? Ты же так хорошо ушёл! — отступая, восклицала моя жена. Её волосы спутались, щеки порозовели, и, кажется, уже набегали слёзы.
Я настиг её за баррикадой стола и крепко тряхнул за плечи. Хватит уже, дайте свет! Дайте же наконец проснуться!
Майя вырвалась. Я снова вёл себя как разбойник.
— Ладно, — сдержался я. — Только возьму вещи, — и, по-осеннему хрустнув клоками обоев, двинулся в комнату. Совсем недавно там помигивал мой компьютер, пел Бадди Холли и Лизка с сушками, влезши ко мне на колени, азартно резалась в «танчики».
— Какие ещё вещи? — спеша за мной, восклицала Майя. — У тебя здесь нет никаких вещёй! У тебя здесь вообще __________ничего нет! И правда, в комнате оказалось пусто, как в новостройке. Одни стены и небо в окне. Я помял руки: срочно требовалось что-то, к чему можно было бы приложить взрывную мощь отчаяния. Идея пришла сразу. Я вошёл в загроможденную гостиную и, сорвав полиэтилен, отволок Майино трюмо в спальню, на место, где оно стояло во дни нашего счастья. Потом вернулся за письменным столом, смахнул присыпанные побелкой газеты. Стол оказался крепок — дубовая столешница и неразборная тумба. Я приподнял угол, соображая, как будет лучше выкорчевать его из гостиной.
Наверно я был похож на воронку смерча или на гранату с оторванной чекой. Чуть расширив глаза, Майя смотрела, как роковой катаклизм, ворвавшись в дом, ворочает её мебель.
— Я изме-нился! — скрипел я, перекантовывая стол. — Я всё перео-смыслил. Ясно?
— Думаешь, надел зелёную майку и под ней не видно твоей черноты?
Я оттолкнул стол. Под ногой хрустнула Лизкина заколка- ромашка. Пытаясь отступить, Майя упёрлась в стену.
— Твой муж был на войне, а ты его не дождалась! — прохрипел я, веря до слёз в свою жалобную историю. — Вон, других-то вера от пули хранила! А меня?
— Заработать денег — это война?
Дзинь! Лопнула струна. Я опустил руки. Но ведь это было уже потом, когда всё пошло под откос! А вначале мы хотели булочную, дом, сад, всё такое! Да, я переборщил. Но ведь и ты хороша — нашла себе другую землю! Пускай зеленеет, новенькая!
Майя больше не прерывала меня. Только без сил опустилась на край заваленного вещами дивана. Я сел рядом и обнял её. Она не вырвалась. И, может, победа была бы мне в радость, если бы мои руки не почуяли излучаемую её телом тоску — смирение пленника, бежавшего и настигнутого в миг свободы.
Я разжал объятие, поднялся, осторожно переступил черезобои с высохшим клеем и вышел за дверь. На лестничной площадке снял зелёную майку и бросил в мусоропровод. Бредовость собственных действий меня не смущала. Делай, что хочешь! — разрешил я себе. — Только не прыгай с крыши. На улице осень ударила мне в голый живот перемешанными с ветром листьями. Один я поймал — кленовый, кроваво- красный. Сел в машину, включил печку и музыку. В лицо пахнуло пустыней, голова заныла от грохота.
Таким вот гоголем, распевая вместе с «эйси-диси», я доехал до первого стража дорог.
— А почему в таком виде? — спросил он, наклонившись с полуулыбкой к форточке и принюхиваясь. Но нет, сладостного запаха не было. Нутром он почуял: я трезв — и сразу же его настроение рухнуло. Было ясно: не выместив на мне разочарование, он не отстанет.
Думаю, если б я сказал ему правду о Майе, он подобрел бы вновь. Всё-таки все мы братья, живём на одной планете. Но правду — этой вот братской морде?
Привычным российским жестом я достал из кармана то, чего он желал, сунул в права и протянул в окошко.
Как ни странно, после уплаты подати мне стало веселей на душе. Я подумал, всё-таки чаще всего у человека есть выбор: бороться или плюнуть, страдать или откупиться. Мне предстояло обдумать мои варианты.
4
Дно
Отзвук неудавшегося примирения с Майей утих, и ничто не пришло ему на смену. А когда в конце октября выпал снег, я исчез окончательно. Мне сделалось всё равно, чем пахнет — бензином, водкой или обойным клеем, мороз на улице или дождь. Рецепторы выключились, и вскоре я начал испытывать удовольствие от сознания, что высшая точка пройде- на — можно спокойно дрейфовать к финалу. Да, мне уже не стать ни героем, ни мудрым старцем, даже просто хорошим человеком — вряд ли. И всё же я занят делом и никого не луплю под дых. К тому же у меня есть Лиза, следовательно, на остаток лет сгодится простая цель — заработать денег для дочери. Чтоб была человеком вольным и не зависела от мужиков.
Со времен пекарни у меня остались друзья, семейная пара — менеджер по закупкам Денис и бухгалтер Маргоша. У нас было мало общего, но я их любил. Мне нравилось, что флегматичный Денис и пробивная Маргоша были ярко выраженное одно. Особенно бывало забавно, когда этот двуглавый орёл сам с собою ссорился.
В последние годы мы встречались редко — Майя не одобряла ядовитых ногтей и командного тона Маргоши. Я сожа- лел об угасшем товариществе. Мне казалось, эти люди и есть те самые простые созидатели, на которых держится земной быт.
Прознав о моих неурядицах, Маргоша с Денисом подхватили меня и на ручищах дружбы поволокли в направлении, о котором я не любопытствовал. Теперь после работы мы частенько встречались и заходили куда-нибудь выпить пива. Они же внушили мне мысль прекратить нагружать родителей своей депрессивной личностью и снять квартиру. Мне было всё равно. Я рассудил так: раз уж Майя сделала ремонт, почему бы и мне не сменить стены?
Чтобы удобнее было меня опекать, Маргоша нашла мне квартиру по соседству. Внешне она была ничего — чистая, с большой кухней. Но, видно, до меня в ней пожило много людей. Вопли, слёзы, ярость, пьяный угар — всё это выходило по ночам из-под новых обоев и лезло в сердце.
— А ты как хотел? — удивился Петя, когда я пожаловался ему. — Нашёл где жить! Съёмная однушка на окраине! Скажи спасибо, что есть балкон.
Балкону я действительно был рад и за осень прибавил к моей сигаретной норме ещё полпачки. С высоты мне было видно микрорайон — расчищенную от мусора и заставленную домами пустыню. Напротив строили магазин. По вечерам из тьмы выступали жёлтые окна бытовок. Строительный фонарь, подвешенный на проводе, светил мне в комнату, как вражеский НЛО.
От фонаря ли этого или от нового быта в целом меня стала одолевать бессонница. Каждую ночь, часа в четыре, я просыпался и, чуя, что уже не засну, шёл курить на балкон. Мёрз там минут десять, уставившись на фальшивую Венеру прожектора, заваривал на кухне пакетик чая и опять смотрел на фонарь, слушая звон строительной техники.
В моё полубдение сваливались вопросы. Почему я менеджер? А не солдат? А не булочник? Почему я один и что делаю в этой пустыне?
Поначалу вопросы множились, а потом вспыхнули и слились в один: для чего, собственно говоря, жить?
Я смотрел в мутный воздух, надеясь впитать ответ. Бруски домов, бытовки, тусклый невсамделишный свет — ни одного ангела, чтобы сказать мне правду! Это и понятно, ангелов я не заслужил. Но однажды из нечистой, отливающей красным ночи на меня уставились жиденькие глазки. Я увидел их не наяву, конечно, а «мысленным зрением». Демон времени, Хозяин эпохи — вот случайные имена, какие пришли мне на ум.
«Живи, я помогу!» — убеждал меня демон и подсовывал прямо в мозг договор о сотрудничестве. Мне предлагались деньги, машины, новинки индустрии развлечений и далее по потребностям моего прогрессирующего убожества. За весь этот милый бедлам просили недорого. Я должен был отдать даже не душу — время. Всего лишь время жизни, которое обязался потратить на пункты, указанные в договоре. Прежде такого не бывало со мной. Но теперь, выпав из любви, я стал беззащитен перед ночными хищниками.
Ту ночь я закончил прискорбно, точно как требовал этот тип. Жахнул со страху водки и слетел в подземелье кошмаров.
А когда проснулся, в комнату валил, как дым, серый свет ноября. Я глотнул ртутной воды из-под крана, ею же умыл физиономию и отправился на работу. У подъезда отбойным молотком дробили асфальт. «Никакой не демон, конечно! — утешал я себя, идя к машине — чёрному, зверски сильному чудовищу, неизвестно как оказавшемуся у меня в рабстве. — Просто наконец взглянул со стороны на свою деградацию».
Днём, за делами, мне стало легче, а ближе к сумеркам навалилось по новой. Я еле дожил до конца рабочего дня и, не полагаясь на Денис-Маргошино пиво, позвонил из машины в мою скорую помощь — Пете.
— Говоришь, демон времени? — усмехнулся он, выслушав мой отчаянный монолог. — Ну а ты на что надеялся? Проанализируй, что у тебя есть. Работа, хлебнул пивка и спать! Ну в Интернете ещё чего-нибудь полистаешь. Ты просто плохо живёшь! — заключил он.
Я был согласен, что живу плохо. Мне и вообще разонравился этот процесс. На мой вопрос, что делать, Петя вопреки обыкновению ответил уклончиво.
— Ничего ты сейчас не сделаешь. Падай дальше! — сказал он. — Как до дна долетишь — звони!
Мне уже очень хотелось долететь поскорее. Я даже начал молиться об этом Богу. Упирался мыслью в глухую, без единого сквознячка веры, стену и просил: Господи, давай что-нибудь предпримем со мной. Какое-нибудь радикальное средство!
Как рождалась иллюстрация к «Булочнику»
«Булочник и Весна» Вопросы и ответы.
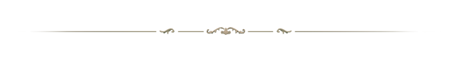
|

